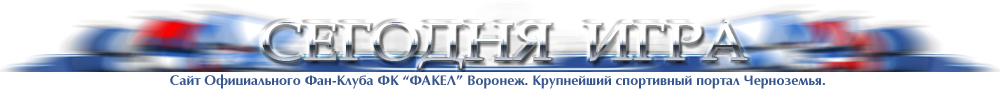| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 14 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Ахмат (Грозный)
Предыдущий матч: Краснодар (Краснодар) - Факел (Воронеж) - 5:0
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 49 | |
| 2 | 22 | 46 | |
| 3 | 22 | 44 | |
| 4 | 22 | 42 | |
| 5 | 22 | 41 | |
| 6 | 22 | 40 | |
| 7 | 22 | 33 | |
| 8 | 22 | 32 | |
| 9 | 22 | 25 | |
| 10 | 22 | 23 | |
| 11 | 22 | 22 | |
| 12 | 22 | 21 | |
| 13 | 23 | 19 | |
| 14 | 22 | 19 | |
| 15 | 23 | 14 | |
| 16 | 22 | 14 |
Следующий матч

Факел
(Воронеж)
|
5 апреля 2025 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |

Ахмат
(Грозный)
|
Предыдущий матч

Краснодар
(Краснодар)
|
5:0
30 марта 2025 Краснодар Краснодар |

Факел
(Воронеж)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 7 | 1 | 44-13 | 49 | |
| 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 44-14 | 46 | |
| 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 41-17 | 44 | |
| 4 | 22 | 12 | 6 | 4 | 48-24 | 42 | |
| 5 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33-15 | 41 | |
| 6 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38-34 | 40 | |
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 35-33 | 33 | |
| 8 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29-33 | 32 | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28-41 | 25 | |
| 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26-37 | 23 | |
| 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25-37 | 22 | |
| 12 | 22 | 4 | 9 | 9 | 16-24 | 21 | |
| 13 | 23 | 5 | 4 | 14 | 18-43 | 19 | |
| 14 | 22 | 3 | 10 | 9 | 20-35 | 19 | |
| 15 | 23 | 3 | 5 | 15 | 21-43 | 14 | |
| 16 | 22 | 2 | 8 | 12 | 11-34 | 14 |
Сон в зимнюю ночь
 После того как хоккейная сборная России уступила чехам в матче за третье место, специальный корреспондент Ъ АНДРЕЙ Ъ-КОЛЕСНИКОВ мучительно попытался разобраться, почему же она так и не выиграла эту Олимпиаду.
Для чешских болельщиков игра за бронзовые медали была тем же, чем для нас была игра с Канадой. Рядом со мной сидели два чеха. Стоило нам начать: "Рос-си-я!", как они тут же принимались сходить с ума: "Че-ши!" – садясь к нам вполоборота и при этом старательно глядя на поле. А куда чеши? Чесать некуда: в этот вечер мы уже пришли, куда хотели.
Но у этих ребят не было флага шесть метров на два, а у нас был. Их было двое, а нас было восемь. И мы, в отличие от наших хоккеистов, реализовали численное преимущество.
Чехи тем временем сделали то же самое на льду. "Че-ши!" – обрадовались эти двое. "Рос-си-я",– вздохнули мы, и вздох этот трансцендентальным эхом отозвался в Palasport Olimpico.
– Со-вет-ский Союз! – раздраженно крикнул один чех, повернувшись к нам уже на три четверти.
– Че-хо-сло-ва-ки-я! – поддержали мы.
Он обернулся прямо бледный от возмущения.
– Мы – чеши! – сказал он.
Тренер Евгения Плющенко Алексей Мишин, сидевший с нами, что-то ответил ему, но он, слава богу, не услышал.
– Вас целый мир,– продолжил чех на неплохом русском (прилежно, видимо, учился в школе).– Чеши – очень мал.
В голосе его между тем была гордость. Пока счет был 1:0, гордость была законной. Когда счет стал 2:0, на чеха стало больно смотреть. Он светился от счастья, его распирало от гордости так, что я начал всерьез беспокоиться: если бы чехи забили еще один гол, он мог лопнуть.
Сидевшая в нашем ряду олимпийская чемпионка Татьяна Навка сказала обреченно:
– Они не выиграют.
– Да почему вы так думаете? – спросил я.– Может, обойдется.
– Я вижу,– произнесла она, и боль страдания исказила ее прекрасное чело.
– А вы медаль принесли с собой? – спросил я.
Я знал, что она приносила на матч с Канадой в сумочке свою золотую медаль – и сработало.
– Да,– ответила она,– только мама куда-то отошла с моей сумочкой. Я беспокоюсь, что нам сейчас опять забьют.
Ее мама вернулась через десять минут, но и это не помогло. Наши оказались в большинстве. Я видел, как к скамейке запасных подъехал Дарюс Каспарайтис и показал главному тренеру сборной России Владимиру Крикунову на капитана Алексея Ковалева: "Он должен сейчас играть!". Тренер пожал плечами: "Да делайте что хотите". Дарюс Каспарайтис сел на скамью. Алексей Ковалев вышел на поле. Капитан очень хотел забить. Он метался по площадке как раненый лев. У него и в самом деле была травма. Один из тренеров потом говорил, что с такой травмой человек, играющий в российском чемпионате, и до раздевалки не дошел бы.
И все-таки они проиграли. Да, поддержка на трибунах была не та, что на матче с Канадой. Но и наши ребята были не те.
Я думал, вечером никто из них не приедет в Русский дом. Мы не видели их здесь после четверть- и полуфиналов. После катастрофы с финнами наши хоккеисты приехали в олимпийскую деревню, зашли в столовую. Говорить им было, видимо, не о чем, да и сил не было. Они удивились, когда неутомимый директор Имперского русского балета Гедиминас Таранда принес торт. Меньше других удивился Алексей Ковалев. Это же у него был день рождения. Они для приличия разрезали торт, откусили от него для вида и разошлись. Выброс адреналина во время игры такой, что ночью мало кто быстро засыпает. Почти все мучились до самого утра. Только Александр Овечкин, как потом выяснилось, неплохо выспался, что, конечно, подтверждает версию о том, что этого парня ждет великое будущее.
Я удивился, когда после игры с чехами они все-таки приехали в Русский дом. Их было человек пять–семь: Евгений Малкин, Алексей Ковалев, Александр Овечкин, Максим Соколов, Максим Сушинский (сбрил бороду)...
Александр Овечкин выглядел очень бодро. Слава богу, он хотя бы жизнерадостным не выглядел.
– Почему вы проиграли? – я спросил об этом сразу. Только это могло интересовать нормального человека в этот вечер. Только это интересовало нашу многострадальную страну.
– Я пытаюсь забыть эти две игры, а вы меня спрашиваете об этом,– сказал он.– Это кошмар.
Нет, думал я, мы не дадим тебе забыть. Да ты и сам не забудешь.
– Мы думали: вот оно, золото Олимпиады. Осталось два шага. А сделали два шага назад,– задумчиво сказал он.
Я очень удивился. По моим подсчетам, хоккеисты не должны уметь так красиво выражаться. Даже от фигуристов я с некоторых пор этого не жду. И даже от их тренеров. Александр Овечкин старался не только на площадке.
– Ну а вы, лично вы, почему, думаете, проиграли? – спросил я.
– Я? – переспросил он.– Я думаю, сказалось то, что оба раза ночная игра была.
Игры действительно начинались в 20.30 по туринскому времени.
– Играешь,– объяснил он,– потом спишь. А потом перед игрой опять спишь. Я перед игрой с финнами много спал. Я думаю, просто переспал.
Это было самое феноменальное объяснение, которое мне приходилось слышать по поводу двух тех страшных игр.
Я хотел спросить, проснулся ли он на время игры, но не стал. Это было лишнее. Я видел, что он не спал. Я видел, что с ним творилось на скамейке запасных. Наверное, именно это называется жаждой гола. Если не это, тогда я уж не знаю что.
– Вы понимаете, что вы и ваша команда шесть периодов подряд не забили ни одного гола?
– Да, как раз в раздевалке после игры с чехами говорили,– вздохнул он.
– Было у вас когда-нибудь такое?
– Конечно! – обрадовался он.– В "Вашингтоне". Там не шесть, а двенадцать периодов мы ничего не забивали. Но там ничего страшного. А здесь это конец. Иногда все летит в ворота: бросаешь от синей линии – забиваешь, а иногда вратарь шнурками отбивает.
То есть он, с одной стороны, переспал. С другой – им не везло. Интересно было, все ли объяснения он уже испробовал.
– Ну, я понимаю, о чем вы говорите,– сказал он.– Мы с канадцами и мы с финнами и чехами – небо и земля.
– Ну так в чем дело было?
– Вы, болельщики, видите игру своими глазами. Пьете пиво, покупаете попкорн,– честно пытался объяснить он.– Но вы не можете почувствовать команду, когда у нее не идет игра.
Саша Овечкин устал. И не за эти две недели, а за эти 40 минут. Он устал объяснять, почему они проиграли. Он устал, потому что он не мог этого объяснить. В глазах его была мольба. Он хотел, чтобы я отпустил его на свободу. Я сделал это с чистой совестью. Я понимал: Александр Овечкин сказал не то, что мог. Он сказал то, что знал.
Он и сам это чувствовал. Иначе он не добавил бы неожиданно, когда мы уже прощались:
– Может, мы зря посчитали, что игра с Канадой – решающая. Мы так правда думали. Мы думали, все будет ясно: остаемся за бортом или проходим на нашем корабле дальше.
Даже в такой ситуации он склонялся к лирике. Я не удивлюсь, если узнаю, что по ночам он пишет стихи.
Через несколько минут я беседовал с Алексеем Ковалевым. Я хотел хоть в чем-то попробовать разобраться. Я, конечно, отдавал себе отчет в том, что шансов мало. Для этого надо было, чтобы они сами понимали, что произошло.
Алексей Ковалев сидел передо мной – спокойный, уверенный и гладко выбритый. В глазах – тоска. У меня не было шансов не разглядеть ее. Ведь я и сам тосковал уже два дня и нашел бы ее, если бы ее там даже не было. Но она была.
– Почему вы так играли с американцами и с канадцами и так – с финнами и шведами? – спросил я его.
– Нам туда возвращаться,– пожал он плечами,– и чтобы нам ничего не могли сказать там, мы по-другому играть не могли.
Все. На этом разговор можно было бы закончить.
Это было исчерпывающее объяснение: прежде всего насчет того, почему они так сыграли две последние игры.
Если бы я не сидел во втором ряду, за скамейкой запасных, и не видел бы, как Алексей Ковалев хотел играть и выиграть – и у финнов, и у чехов.
– Желание было,– сказал он,– а энергии не было. То есть вот как вам объяснить? Есть желание, а есть энергетическое желание. Вот энергетического желания не было.
Я снова, как и в разговоре с Александром Овечкиным, удивился. Мне казалось (и меня даже убеждали в этом), что хоккеисты так не разговаривают.
– Я виноват,– сказал он.– Надо было собрать команду и поговорить перед каждой из этих двух игр. Настрой был совсем другой, чем перед канадцами. Тогда все злые были, еще в автобусе зубы точили... Я до пяти утра не спал, думал. Понял, что надо было поговорить.
– Это, может, все-таки тренеру надо делать?
– Тренеры могут дать установку на игру,– ответил он.– А мы – это те, кто выполняет работу. Совсем другое дело, когда мы между собой говорим. Я еще на тренировке перед финнами почувствовал: нет настроя.
– То есть тренер вообще, что ли, ни при чем в такой ситуации?
– Этот тренер вообще не имеет понятия, как вести команду,– спокойно сказал он.– Я это увидел еще на последнем чемпионате мира. Можно любого человека с улицы с секундомером в руках поставить – и он ничуть не хуже будет.
Я вспомнил, как после игры за бронзовые медали на нашей скамейке запасных остались одни только тренеры. Все уже давно ушли, даже с поля, а они все дописывали в свои блокноты какие-то циферки. Они были очень озабочены этим.
Ну вот, что-то стало проясняться ни с того, ни с сего, подумал я.
– Ко мне ребята всю игру с финнами подходили: "Скажи ему, что надо переходить на три звена! В полуфинале в четыре звена не играют! Ни чехи, ни финны, никто!". А у него четыре. И он говорит: "Все нормально, играем!". Договорились, что каждое звено играет по минуте – "пошел следующий на лед, пошел следующий!". Он великий тренер? А почему, а? Бронза на чемпионате мира? Дали заслуженного тренера России? Мы, когда получали в свое время заслуженных мастеров спорта, что-нибудь должны были выиграть. Олимпиаду, например, в 1992 году. Я не люблю лезть в чужие дела: дали и дали. Но мне обидно, когда я сижу на скамейке и ничего не могу поделать.
– Но вы же с ним у канадцев выиграли, с этим тренером,– сказал я, тоже почему-то начиная избегать называть Владимира Крикунова по имени и фамилии.
– В игре с канадцами Борис Михайлов вел игру,– отмахнулся он.– Менял составы, думал, делал, а он...
Алексей Ковалев говорил так же невозмутимо, но вещи он говорил, конечно, возмутительные.
– Если ты нам не доверяешь, возьми свою динамовскую команду на Олимпиаду, и посмотрим, что ты выиграешь. Он сегодня перед игрой собрал нас и всех, каждого, такими словами... А нам за бронзовую медаль надо играть. Я хотел ему сказать: "Играйте сами за свою бронзовую медаль!". Мы что, заслужили это? Или просто метод настройки на игру такой? Приглашать нас и делать из нас идиотов? Говорить нам: "У нас есть четыре звена, и мы играем всеми ими по очереди". Мы сидим на скамейке в полном шоке. Удаление у нас – играет то же звено, которое нарушило. В большинстве играют те же, кто заработал удаление. Потому что договорились играть по минуте!
Он посмотрел на мое лицо.
– Ну! А мы представляешь как себя чувствуем на скамейке! У нас все играют по очереди! И с финнами, и с чехами...
– Я понял, кажется, вас,– сказал я.– Но расскажите все-таки, почему вы не забиваете впятером против троих?
– Ну, просто бывает так, что не забиваем. Иногда кажется: чем больше хотим, тем меньше шансов. А особенно когда в большинстве играет наше четвертое звено против их первого,– упрямо повторил он.– Это, может, последняя моя Олимпиада. Я решил попробовать. Хотел выиграть. Самая большая проблема для меня: как смотреть в глаза людям?
– До сих пор не научились после проигрыша смотреть в глаза людям? – спросил я.– Этому в НХЛ не учат?
– Этому я научиться не могу,– сказал он.– Это что там, что здесь – самая большая проблема.
Мы разговаривали уже больше часа, было почти пять утра, и он не хотел прекращать этот разговор.
– Правда очень хотелось выиграть Олимпиаду? – спросил я.
– А ты как думаешь?
– Уже ведь есть одно золото, из Альбервиля.
– Мы выигрывали его для другой страны (в 1992 году в Альбервиле выступала команда СНГ.– А. К.).
– В Ванкувере, может, свое возьмешь.
– Если меня самого в тридцать семь лет возьмут.
– Может, в качестве тренера возьмешь.
– Тренерам медаль на Олимпиаде не дают,– убийственно посмотрел он на меня.
В кафе Русского дома, куда мы вернулись, Сюткин-бэнд играл ретро. Под руку попался шлягер "А нам все равно!". Кто-то его заказал. Хоккеисты переглядывались, пока не замахали руками протестующе. Сюткин-бэнд остановился.
Это все-таки была не их песня.
После того как хоккейная сборная России уступила чехам в матче за третье место, специальный корреспондент Ъ АНДРЕЙ Ъ-КОЛЕСНИКОВ мучительно попытался разобраться, почему же она так и не выиграла эту Олимпиаду.
Для чешских болельщиков игра за бронзовые медали была тем же, чем для нас была игра с Канадой. Рядом со мной сидели два чеха. Стоило нам начать: "Рос-си-я!", как они тут же принимались сходить с ума: "Че-ши!" – садясь к нам вполоборота и при этом старательно глядя на поле. А куда чеши? Чесать некуда: в этот вечер мы уже пришли, куда хотели.
Но у этих ребят не было флага шесть метров на два, а у нас был. Их было двое, а нас было восемь. И мы, в отличие от наших хоккеистов, реализовали численное преимущество.
Чехи тем временем сделали то же самое на льду. "Че-ши!" – обрадовались эти двое. "Рос-си-я",– вздохнули мы, и вздох этот трансцендентальным эхом отозвался в Palasport Olimpico.
– Со-вет-ский Союз! – раздраженно крикнул один чех, повернувшись к нам уже на три четверти.
– Че-хо-сло-ва-ки-я! – поддержали мы.
Он обернулся прямо бледный от возмущения.
– Мы – чеши! – сказал он.
Тренер Евгения Плющенко Алексей Мишин, сидевший с нами, что-то ответил ему, но он, слава богу, не услышал.
– Вас целый мир,– продолжил чех на неплохом русском (прилежно, видимо, учился в школе).– Чеши – очень мал.
В голосе его между тем была гордость. Пока счет был 1:0, гордость была законной. Когда счет стал 2:0, на чеха стало больно смотреть. Он светился от счастья, его распирало от гордости так, что я начал всерьез беспокоиться: если бы чехи забили еще один гол, он мог лопнуть.
Сидевшая в нашем ряду олимпийская чемпионка Татьяна Навка сказала обреченно:
– Они не выиграют.
– Да почему вы так думаете? – спросил я.– Может, обойдется.
– Я вижу,– произнесла она, и боль страдания исказила ее прекрасное чело.
– А вы медаль принесли с собой? – спросил я.
Я знал, что она приносила на матч с Канадой в сумочке свою золотую медаль – и сработало.
– Да,– ответила она,– только мама куда-то отошла с моей сумочкой. Я беспокоюсь, что нам сейчас опять забьют.
Ее мама вернулась через десять минут, но и это не помогло. Наши оказались в большинстве. Я видел, как к скамейке запасных подъехал Дарюс Каспарайтис и показал главному тренеру сборной России Владимиру Крикунову на капитана Алексея Ковалева: "Он должен сейчас играть!". Тренер пожал плечами: "Да делайте что хотите". Дарюс Каспарайтис сел на скамью. Алексей Ковалев вышел на поле. Капитан очень хотел забить. Он метался по площадке как раненый лев. У него и в самом деле была травма. Один из тренеров потом говорил, что с такой травмой человек, играющий в российском чемпионате, и до раздевалки не дошел бы.
И все-таки они проиграли. Да, поддержка на трибунах была не та, что на матче с Канадой. Но и наши ребята были не те.
Я думал, вечером никто из них не приедет в Русский дом. Мы не видели их здесь после четверть- и полуфиналов. После катастрофы с финнами наши хоккеисты приехали в олимпийскую деревню, зашли в столовую. Говорить им было, видимо, не о чем, да и сил не было. Они удивились, когда неутомимый директор Имперского русского балета Гедиминас Таранда принес торт. Меньше других удивился Алексей Ковалев. Это же у него был день рождения. Они для приличия разрезали торт, откусили от него для вида и разошлись. Выброс адреналина во время игры такой, что ночью мало кто быстро засыпает. Почти все мучились до самого утра. Только Александр Овечкин, как потом выяснилось, неплохо выспался, что, конечно, подтверждает версию о том, что этого парня ждет великое будущее.
Я удивился, когда после игры с чехами они все-таки приехали в Русский дом. Их было человек пять–семь: Евгений Малкин, Алексей Ковалев, Александр Овечкин, Максим Соколов, Максим Сушинский (сбрил бороду)...
Александр Овечкин выглядел очень бодро. Слава богу, он хотя бы жизнерадостным не выглядел.
– Почему вы проиграли? – я спросил об этом сразу. Только это могло интересовать нормального человека в этот вечер. Только это интересовало нашу многострадальную страну.
– Я пытаюсь забыть эти две игры, а вы меня спрашиваете об этом,– сказал он.– Это кошмар.
Нет, думал я, мы не дадим тебе забыть. Да ты и сам не забудешь.
– Мы думали: вот оно, золото Олимпиады. Осталось два шага. А сделали два шага назад,– задумчиво сказал он.
Я очень удивился. По моим подсчетам, хоккеисты не должны уметь так красиво выражаться. Даже от фигуристов я с некоторых пор этого не жду. И даже от их тренеров. Александр Овечкин старался не только на площадке.
– Ну а вы, лично вы, почему, думаете, проиграли? – спросил я.
– Я? – переспросил он.– Я думаю, сказалось то, что оба раза ночная игра была.
Игры действительно начинались в 20.30 по туринскому времени.
– Играешь,– объяснил он,– потом спишь. А потом перед игрой опять спишь. Я перед игрой с финнами много спал. Я думаю, просто переспал.
Это было самое феноменальное объяснение, которое мне приходилось слышать по поводу двух тех страшных игр.
Я хотел спросить, проснулся ли он на время игры, но не стал. Это было лишнее. Я видел, что он не спал. Я видел, что с ним творилось на скамейке запасных. Наверное, именно это называется жаждой гола. Если не это, тогда я уж не знаю что.
– Вы понимаете, что вы и ваша команда шесть периодов подряд не забили ни одного гола?
– Да, как раз в раздевалке после игры с чехами говорили,– вздохнул он.
– Было у вас когда-нибудь такое?
– Конечно! – обрадовался он.– В "Вашингтоне". Там не шесть, а двенадцать периодов мы ничего не забивали. Но там ничего страшного. А здесь это конец. Иногда все летит в ворота: бросаешь от синей линии – забиваешь, а иногда вратарь шнурками отбивает.
То есть он, с одной стороны, переспал. С другой – им не везло. Интересно было, все ли объяснения он уже испробовал.
– Ну, я понимаю, о чем вы говорите,– сказал он.– Мы с канадцами и мы с финнами и чехами – небо и земля.
– Ну так в чем дело было?
– Вы, болельщики, видите игру своими глазами. Пьете пиво, покупаете попкорн,– честно пытался объяснить он.– Но вы не можете почувствовать команду, когда у нее не идет игра.
Саша Овечкин устал. И не за эти две недели, а за эти 40 минут. Он устал объяснять, почему они проиграли. Он устал, потому что он не мог этого объяснить. В глазах его была мольба. Он хотел, чтобы я отпустил его на свободу. Я сделал это с чистой совестью. Я понимал: Александр Овечкин сказал не то, что мог. Он сказал то, что знал.
Он и сам это чувствовал. Иначе он не добавил бы неожиданно, когда мы уже прощались:
– Может, мы зря посчитали, что игра с Канадой – решающая. Мы так правда думали. Мы думали, все будет ясно: остаемся за бортом или проходим на нашем корабле дальше.
Даже в такой ситуации он склонялся к лирике. Я не удивлюсь, если узнаю, что по ночам он пишет стихи.
Через несколько минут я беседовал с Алексеем Ковалевым. Я хотел хоть в чем-то попробовать разобраться. Я, конечно, отдавал себе отчет в том, что шансов мало. Для этого надо было, чтобы они сами понимали, что произошло.
Алексей Ковалев сидел передо мной – спокойный, уверенный и гладко выбритый. В глазах – тоска. У меня не было шансов не разглядеть ее. Ведь я и сам тосковал уже два дня и нашел бы ее, если бы ее там даже не было. Но она была.
– Почему вы так играли с американцами и с канадцами и так – с финнами и шведами? – спросил я его.
– Нам туда возвращаться,– пожал он плечами,– и чтобы нам ничего не могли сказать там, мы по-другому играть не могли.
Все. На этом разговор можно было бы закончить.
Это было исчерпывающее объяснение: прежде всего насчет того, почему они так сыграли две последние игры.
Если бы я не сидел во втором ряду, за скамейкой запасных, и не видел бы, как Алексей Ковалев хотел играть и выиграть – и у финнов, и у чехов.
– Желание было,– сказал он,– а энергии не было. То есть вот как вам объяснить? Есть желание, а есть энергетическое желание. Вот энергетического желания не было.
Я снова, как и в разговоре с Александром Овечкиным, удивился. Мне казалось (и меня даже убеждали в этом), что хоккеисты так не разговаривают.
– Я виноват,– сказал он.– Надо было собрать команду и поговорить перед каждой из этих двух игр. Настрой был совсем другой, чем перед канадцами. Тогда все злые были, еще в автобусе зубы точили... Я до пяти утра не спал, думал. Понял, что надо было поговорить.
– Это, может, все-таки тренеру надо делать?
– Тренеры могут дать установку на игру,– ответил он.– А мы – это те, кто выполняет работу. Совсем другое дело, когда мы между собой говорим. Я еще на тренировке перед финнами почувствовал: нет настроя.
– То есть тренер вообще, что ли, ни при чем в такой ситуации?
– Этот тренер вообще не имеет понятия, как вести команду,– спокойно сказал он.– Я это увидел еще на последнем чемпионате мира. Можно любого человека с улицы с секундомером в руках поставить – и он ничуть не хуже будет.
Я вспомнил, как после игры за бронзовые медали на нашей скамейке запасных остались одни только тренеры. Все уже давно ушли, даже с поля, а они все дописывали в свои блокноты какие-то циферки. Они были очень озабочены этим.
Ну вот, что-то стало проясняться ни с того, ни с сего, подумал я.
– Ко мне ребята всю игру с финнами подходили: "Скажи ему, что надо переходить на три звена! В полуфинале в четыре звена не играют! Ни чехи, ни финны, никто!". А у него четыре. И он говорит: "Все нормально, играем!". Договорились, что каждое звено играет по минуте – "пошел следующий на лед, пошел следующий!". Он великий тренер? А почему, а? Бронза на чемпионате мира? Дали заслуженного тренера России? Мы, когда получали в свое время заслуженных мастеров спорта, что-нибудь должны были выиграть. Олимпиаду, например, в 1992 году. Я не люблю лезть в чужие дела: дали и дали. Но мне обидно, когда я сижу на скамейке и ничего не могу поделать.
– Но вы же с ним у канадцев выиграли, с этим тренером,– сказал я, тоже почему-то начиная избегать называть Владимира Крикунова по имени и фамилии.
– В игре с канадцами Борис Михайлов вел игру,– отмахнулся он.– Менял составы, думал, делал, а он...
Алексей Ковалев говорил так же невозмутимо, но вещи он говорил, конечно, возмутительные.
– Если ты нам не доверяешь, возьми свою динамовскую команду на Олимпиаду, и посмотрим, что ты выиграешь. Он сегодня перед игрой собрал нас и всех, каждого, такими словами... А нам за бронзовую медаль надо играть. Я хотел ему сказать: "Играйте сами за свою бронзовую медаль!". Мы что, заслужили это? Или просто метод настройки на игру такой? Приглашать нас и делать из нас идиотов? Говорить нам: "У нас есть четыре звена, и мы играем всеми ими по очереди". Мы сидим на скамейке в полном шоке. Удаление у нас – играет то же звено, которое нарушило. В большинстве играют те же, кто заработал удаление. Потому что договорились играть по минуте!
Он посмотрел на мое лицо.
– Ну! А мы представляешь как себя чувствуем на скамейке! У нас все играют по очереди! И с финнами, и с чехами...
– Я понял, кажется, вас,– сказал я.– Но расскажите все-таки, почему вы не забиваете впятером против троих?
– Ну, просто бывает так, что не забиваем. Иногда кажется: чем больше хотим, тем меньше шансов. А особенно когда в большинстве играет наше четвертое звено против их первого,– упрямо повторил он.– Это, может, последняя моя Олимпиада. Я решил попробовать. Хотел выиграть. Самая большая проблема для меня: как смотреть в глаза людям?
– До сих пор не научились после проигрыша смотреть в глаза людям? – спросил я.– Этому в НХЛ не учат?
– Этому я научиться не могу,– сказал он.– Это что там, что здесь – самая большая проблема.
Мы разговаривали уже больше часа, было почти пять утра, и он не хотел прекращать этот разговор.
– Правда очень хотелось выиграть Олимпиаду? – спросил я.
– А ты как думаешь?
– Уже ведь есть одно золото, из Альбервиля.
– Мы выигрывали его для другой страны (в 1992 году в Альбервиле выступала команда СНГ.– А. К.).
– В Ванкувере, может, свое возьмешь.
– Если меня самого в тридцать семь лет возьмут.
– Может, в качестве тренера возьмешь.
– Тренерам медаль на Олимпиаде не дают,– убийственно посмотрел он на меня.
В кафе Русского дома, куда мы вернулись, Сюткин-бэнд играл ретро. Под руку попался шлягер "А нам все равно!". Кто-то его заказал. Хоккеисты переглядывались, пока не замахали руками протестующе. Сюткин-бэнд остановился.
Это все-таки была не их песня.
Комментарии всего 0
Вам, необходимо авторизоваться